«Я вымираю, все меньше меня остается…»
Публикуем неизвестные стихи Александра Еременко
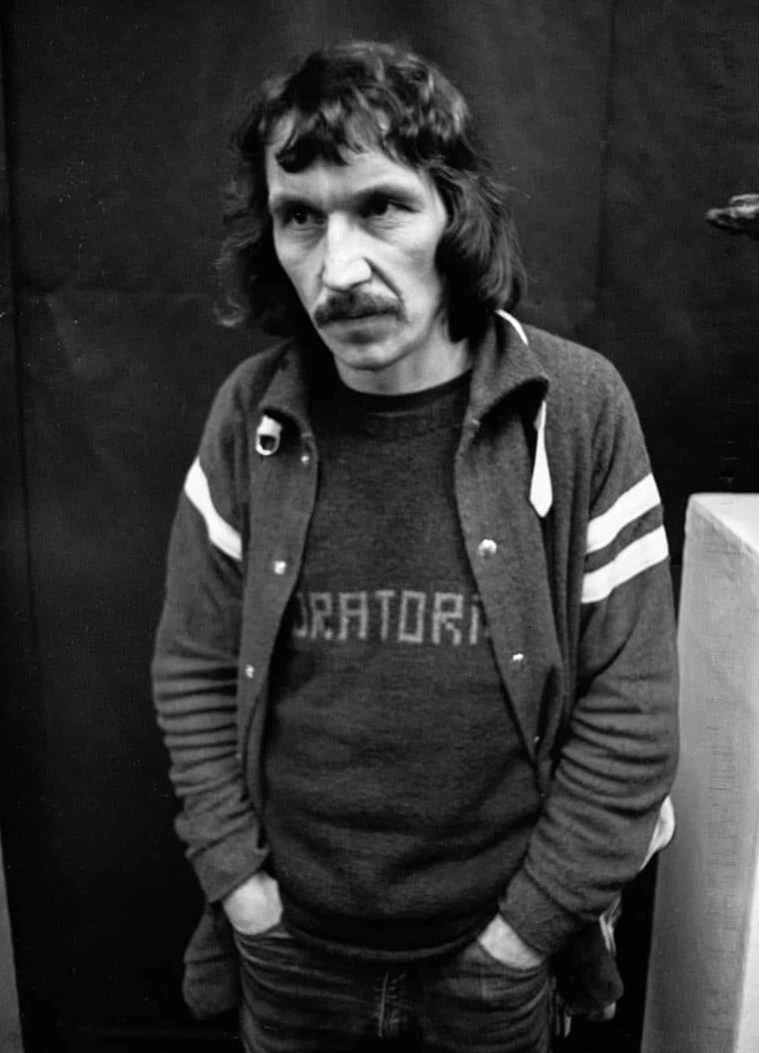
40 дней назад поэтическая Москва простилась с Александром Еременко, Еремой — легендой поколения, «королем поэтов», по праву в честном состязании получившим этот титул еще в начале 80-х.
Еременко написал немного, вошел в русскую поэзию сразу, абсолютно состоявшимся поэтом, стихи которого знали наизусть еще до первых публикаций. Эти стихи давно стали хрестоматийными, их перевели на все языки, по ним проводят коллоквиумы и защищают диссертации, о его несомненном влиянии на себя говорили и писали многие — от Бориса Рыжего до Игоря Иртеньева, от Юрия Арабова до столпов легендарного «свердловского рока».
Почти четверть века назад Ерема замолчал, он не печатал новых текстов, но и «молчание Еременко» стало литературной легендой. Казалось, все стихи Еременко известны, многократно опубликованы, их цитировали поэты в недавних многочисленных посмертных откликах в газетах и соцсетях.
Тем удивительнее история этой уникальной публикации.
Александр Еременко родился в 1950 году в деревне Гоношиха Алтайского края. После школы ушел служить во флот, был моряком и кочегаром, ходил на сейнере, писал письма сестре Тамаре и другу детства Михаилу Коновальчуку. В этих письмах — его юношеские стихи. Позже он забрал у сестры эти пробы пера, к которым больше никогда не возвращался, не печатал. Наверное, уничтожил. И я бы не рискнул сегодня, в день сороковин, публиковать некоторые из них, если бы не удивительное продолжение этой истории, которую рассказала мне Тамара Еременко-Зильбер, живущая ныне в Оксфорде.
Письма и стихи нашлись в папке, хранившейся у матери Михаила Коновальчука, известного кинематографиста, сценариста, писателя, благодаря которому, собственно, и стала возможной эта публикация. С согласия А. Еременко Коновальчук использовал некоторые ранние стихи и письма поэта в своем документальном романе «А.В.Е.» о юности двух друзей. Ерема успел увидеть гранки первой части романа, публикующегося в парижском литературном альманахе «Глаголъ».
Юношеские стихи, написанные, когда поэту не было еще и двадцати, — это, в сущности, черновики будущего Еремы. В них ощутимы и ученичество, и ломка поэтического голоса, но уже отчетливо проступает тот самый Александр Еременко, поэт, стихи которого запоминали, впервые услышав, и не забывали уже никогда.
Александр Еременко
***
Вечер тяжелый, как мокрая губка,
Злые погоды летят, чертыхаясь.
Ходит по кругу гудящая трубка,
губ наших попеременно касаясь.
Выпало! Чудо! Блестит переменка!
В комнате вашей с походным убранством
мы выпиваем, сдвинув коленки,
как пассажиры за преферансом.
Мы пассажиры, стремительный ветер
воет и рвет изо рта сигареты.
Вечно транзитен! Проситель не вечен.
Вечен ногами вертящий планеты.
Жми по вербовке, просаживай в карты.
И воскресай в неуютном пространстве.
Прокляты нары. Да здравствуют нарты!
И строганина с шампанским. На насте.
Город — пустыня. Вокзал — обитаем.
Мы, оставляя следы на паркете,
в души друг друга с размаху влетаем,
Словно горбуша в японские сети.
***
Мы большие и маленькие.
Мы качаемся плавно.
Мы не люди, мы маятники.
Это самое главное.
Мы живем ощущением
необычного мига —
прохождения линии
понимания мира.
Мы живем не из корысти,
наша участь известная.
Мы проходим на скорости
наслажденье отвесное.
Мы не ставим молчания
измеренья четвертого.
В мертвых точках качания
мы действительно мертвые.
Мы качаемся, странствуем,
ограничены крайне.
Мы стремимся из крайности
в неизбежную крайность.
Предвкушенье фиктивное —
к необычному ринуться.
Суждено нам фиксировать
только плюсы и минусы.
Только точки молчания,
и об этом рассказывать.
А момент понимания
суждено нам проскальзывать.
***
Я вымираю, все меньше меня остается.
С каждым днем я все реже встречаюсь на площадях.
И последняя мысль моя яростно бьется,
как слепая горбуша, влетевшая в дель сгоряча.
А когда я уйду, одинокий, последний из рода,
окольцованный гений, невозможный урод,
Как тоскливей и глуше светить будет вам год от года
Мой пылающий лоб, кисть руки и смеющийся рот.
Улыбаясь в зрачки наведенных вослед кинокамер,
кто я был и куда я тащил ваши души дразня?
Вы не слышите, как я кричу вам пустыми зрачками:
Поддержите меня! Как-нибудь поддержите меня
***
Все хорошо. Я все понять могу.
Но только не сумею повториться.
Ни в звездах, и ни в рыбах, и ни в птицах.
В учебниках нигде не говорится,
что все мы у материи в долгу.
Но мне весь мир урок преподавал.
Нам проще понимать, что отделенный
союзом с красным флагом небосвод,
от прочих суд, и дом, и наш народ
удобнее любить, чем отдаленный
Земли не очень ясный идеал.
И уж совсем, наверно, смысла нет
почувствовать любовь других планет.
И все же не напрасно мы в долгу.
Пусть наша мысль проносится по кругу,
питая ложь и приникая к лугу,
вникая в квант и вольтову дугу.
В ударе кисти, в завитке пера ли,
но он взойдет, тот волосок спирали,
тот завиток во вспыхнувшем мозгу.
Все хорошо. Я все понять могу.
Но только повториться не смогу.
Но только не сумею повториться.
Мне снится луг и осень на лугу.
Мне снится лес и ветка, вся в снегу.
Мне снится лес и желтая лисица
бежит, следы роняя на снегу.
1968–1970