Феминистская публичная политика в России. Как развивался женский активизм на фоне авторитарного отката 2010-х
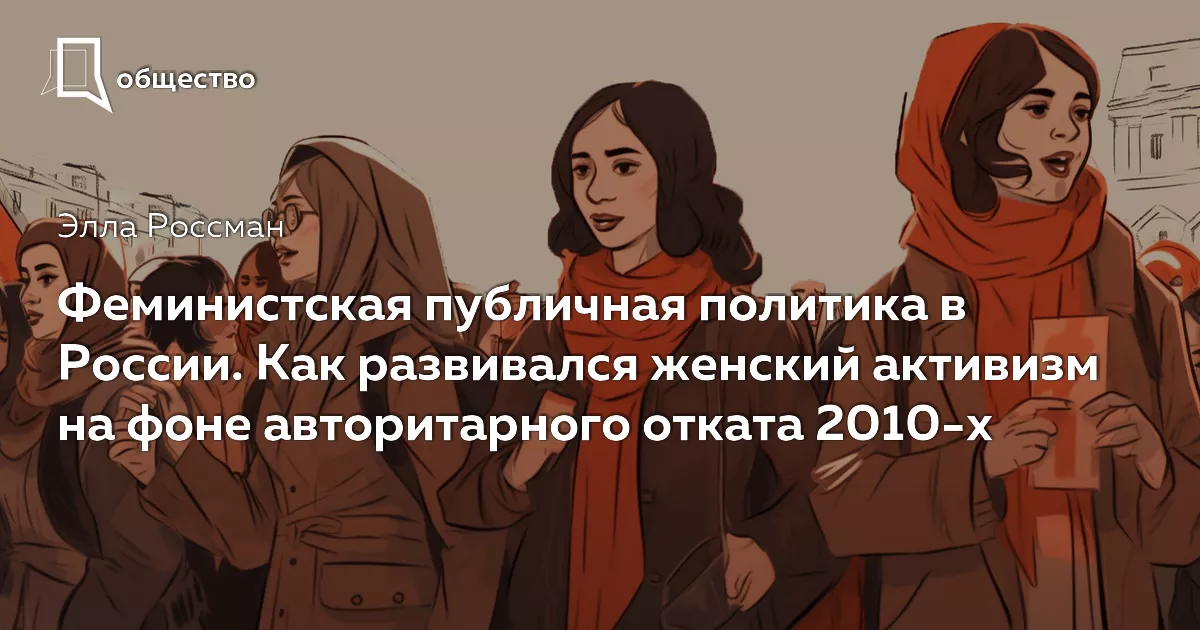
Феминистки стали одной из первых общественных сил, объединившихся против войны в Украине. Как в 2010-х движение накапливало ресурс для политического действия в авторитарном государстве и какие прежние тактики мешают ему развиваться сейчас? О становлении феминистской публичной политики в России рассказывает гендерная исследовательница Элла Россман в лекции, прочитанной в рамках конференции молодых ученых «Векторы-2023» от проекта Post-Marxist Studies: как помадный феминизм помог движению выжить, почему индивидуализм стал стратегией избегания политики и каким образом активистки развивают публичный диалог несмотря на репрессии государства.
Поговорим о публичной сфере как пространстве участия в политике через акт прилюдного высказывания. Это хабермасовское определение публичной сферы в том виде, в котором его трактовала философ Нэнси Фрейзер. В своей статье 1990 года Rethinking the public Sphere она писала, что для того, чтобы существовала развитая публичная сфера по Хабермасу и чтобы она была местом, где возможно участвовать в политике через прилюдное высказывание, нужно несколько принципиальных условий.
Во-первых, нужны институционализированный механизм публичной дискуссии в интересах разных групп. Можно описать это как механизм возможного компромисса. Чтобы такой компромисс вообще мог состояться, а разные группы могли обсудить свои политические позиции и найти общие места, нужны дебаты, журналы и политические газеты, дискуссии внутри академий и университетов и другие пространства публичной дискуссии.
Однако сегодня публичная речь возможна вне институциализированных пространств, либо внутри них, но в более атомизированном формате. Каждый желающий может выйти в Twitter и высказываться с утра до вечера. Как мы видим, некоторые так и поступают. Вопрос Нэнси Фрейзер, заданный еще до появления соцсетей заключается в том, будет ли такое индивидуалистичное высказывание вне институций переговоров превращаться в настоящую публичную сферу? Возможны ли вообще в пространстве таких высказываний полноценные переговоры?
В пространстве индивидуального высказывания, не предполагающего никаких четких правил и такой задачи, как поиск компромисса, общих политических позиций и целей — публичная сфера, на мой взгляд, не строится.
Нэнси Фрейзер пишет, что для развития публичной сферы очень важна автономность от государства, от корпораций и в том числе от любых крупных игроков, которые могут монополизировать пространство внутри публичной сферы, заглушая других политических субъектов. На таких игроков должны быть наложены ограничения, чтобы публичная сфера могла нормально функционировать и действительно становилась пространством дискуссии.
Авторитарный откат и публичная сфера
В 2010-е годы феминистки и другие политические силы в России имели дело не с идеальной публичной сферой в описании Хабермаса и Фрейзер: авторитарные режимы не заинтересованы в том, чтобы люди или социальные группы вели друг с другом переговоры об общих интересах. Авторитарная власть заинтересована в том, чтобы подавлять такие дискуссии и контролировать публичную сферу. Для этого она применяет разные инструменты. Например, точечные репрессии против тех, кто может организовать переговоры, преследование за публичные высказывания.
Государство также использует продуктивное вмешательство в публичную сферу, создавая субъекты, чья задача — наполнять дискуссию идеологией или информационным шумом, который препятствует переговорам и полноценному развитию публичной сферы.
Несмотря на все эти неблагополучные условия, в 2010-е в России активно развивалась публичная дискуссия о феминизме в медиа и активно росло число феминистских независимых организаций. Как это стало возможно — вопреки тому, что властям это не выгодно и они всячески препятствовали развитию таких вещей? У меня есть несколько идей, как можно ответить на эти вопросы, и я хочу сделать это, параллельно углубившись в историю постсоветского феминизма в целом.
Мы знаем, что в 1990-е годы происходило сразу несколько крупных процессов, на фоне которых развивалась политическая жизнь России. С одной стороны, это движение в сторону демократизации. Тут можно сделать много оговорок, насколько успешно оно шло, какие силы были в нем заинтересованы, какие — нет. Но так или иначе мы можем говорить о появлении новых политических групп и социальных организаций, среди которых в том числе были организации, занимающиеся правами женщин и уязвимых групп.
Нельзя игнорировать переход к рыночной экономике как мощный процесс, который создал новые гендерные проблемы в посткоммунистических обществах: неравенство на рынке труда, коммерциализацию женского тела, кризис бюджетного сектора и социального обеспечения, постепенная передача целого ряда социальных функций государства частным акторам. Эти проблемы сильно ударили по женщинам, в том числе и потому, что в семьях они в первую очередь заботятся о детях, стариках и уязвимых, а также являются ответственными за репродуктивный труд. Из-за этого женщины в большей степени, чем мужчины, зависят от государственного социального обеспечения.
На фоне этих процессов в стране появлялись новые женские организации, феминистские независимые группы, а также продолжали свою работу некоторые советские организации, например Союз женщин России как преемник Комитета советских женщин. В Госдуме первого созыва в 1993 году заседала фракция «Женщины России» , получившая 8,72% голосов на выборах.

Надо сказать, что, несмотря на новые вызовы и активное развитие женских организаций, дискуссия о правах женщин не была на первом плане в России в 1990-е и 2000-е. Она не была в центре политической мысли в этот период и вызывала преступно мало интереса, в том числе со стороны государства. Многие видные политики и общественные деятели того времени связывали женскую эмансипацию с советским прошлым и старались дистанциироваться от этой темы. Все это вынуждало новые женские организации опираться на зарубежные партнерства и иностранное финансирование в своей работе.
В 2010-е годы происходит сразу несколько очень мощных поворотов в российской публичной сфере и политике.
Во-первых, это консервативный поворот — термин немного спорный, но я его использую, говоря в первую очередь о семейной политике. Принимаются законы о пропаганде «нетрадиционных семейных ценностей», появляется риторика о «традиционных ценностях».
Нельзя не упомянуть и законы об иностранных агентах. Тогда еще это был закон только об организациях-иноагентах, он сильно ограничил деятельность НКО и организаций, занимающихся правами женщин. Как я сказала ранее, они опирались на иностранное финансирование не потому, что так хотели работать с зарубежными группами и фондами, а потому, что не вызывали такого большого интереса у государственных акторов.
В то же время появилось Евразийское объединение женщин, комитеты по делам женщин, детей, семей и матерей. В правительстве были такие люди, как Оксана Пушкина, которая, будучи в Госдуме, активно взаимодействовала с феминистским низовым сообществом и начала продвигать закон о домашнем насилии и поддерживать феминисток. Пушкина публично выступала против предложений признать феминизм экстремистским — эта идея появилась не сейчас и обсуждалась раньше.
Вышеперечисленные факторы очень негативны для развития феминизма. Но были и позитивные тенденции, например политизация разных социальных слоев и групп, которая последовала за крупными « болотными протестами » 2011–2013 годов. Протесты были подавлены, многие люди подверглись политическому преследованию, но вследствие этого в политику оказались вовлечены большое количество мужчин и женщин.
Глобальный процесс 2010-х годов — это расцвет социальных сетей и появление в них международных феминистских онлайн-кампаний, а также развитие медийной дискуссии о феминизме, поп-культуры вокруг него, когда, например, разные знаменитости вдруг стали феминистками и феминистами, а разговор о нем стал частью мероприятий вроде церемоний по вручению Оскара. На английском подобную гламуризацию принято называть «помадным феминизмом» (lipstick feminism ).

Интерес к феминизму на глобальном уровне появлиял и на развитие движения и публичной дискуссии в России. Это карта по собранным мной данным на март 2021 года и несколькими годами ранее, которая показывает, что количество российских феминистских групп за вторую половину 2010-х годов постоянно росло с каждым годом. Например, в марте 2021 года я насчитала как минимум 45 независимых феминистских групп, которые работали в разных городах России.
Публичная политика лайфстайла
Итак, как я говорила раньше, в России мы имеем дело с ограниченной и умышленно недоразвитой, вследствие действия властей и разных политических акторов, публичной сферой. «Послание» гражданам со стороны власти заключалось в том, что не нужно заниматься политикой вообще. Как у нас принято говорить, это грязное дело, и нужно заниматься своей собственной жизнью.
Феминистская публичная политика развивалась на фоне этого послания и очень изящным образом встроилась в созданную внутри этого месседжа публичную сферу. В 2010-е проводилось много уличных феминистских протестов, были регулярные демонстрации, приуроченные к Международному женскому дню, устраивались всевозможные акции, связанные с политическими заключенными-феминистками.
Однако на фоне ограниченности политической деятельности феминистки начали заниматься не только прямой политической работой, но и тем, что можно назвать «лайфстайлом».
Кроме протестов, они развивали много других разнообразных вариантов публичной политики, которая как бы лавировала между «красными флагами», расставленными властями.
Такая публичная политика включала дискуссии в СМИ, в том числе в лайфстайл-СМИ, которые были не совсем о политике, но на самом деле имели к ней отношение. Например, журнал Wonderzine раньше был преимущественно о лайфстайле, а сейчас сильно политизирован.
В этом сильная сторона феминизма — он позволяет выйти к дискуссиям о политике через разговоры о повседневных и очень личных вещах.
Это то, что я слышала от многих российских феминисток, когда они описывали, как попали в активизм. Они говорили: «сначала меня заинтересовал вопрос о том, почему прокладки так дорого стоят, а потом через это я пришла к пониманию, что такое демократия и почему она нужна». Деятельность феминисток также включала разные виды благотворительности, что более социально приемлемо в России, чем открытая политическая деятельность.
Мимикрирование под благотворительность и лайфстайл, занятия такими вещами, как феминистское искусство, музыка и литература было, на мой взгляд, способом ускользания и скрывания собственной политической деятельности. Не думаю, что это была сознательная стратегия: никто не садился и не говорил «сейчас мы придумаем, как бы нам преодолеть ограничения на политику в России». Скорее, речь идет о бессознательном поиске «пространств вненаходимости» — это понятие ввел Алексей Юрчак, но он изобрел его, описывая позднесоветское общество, хотя, мне кажется, его можно успешно использовать, говоря и о других авторитарных режимах. Бессознательное мимикрирование было достаточно успешной стратегией в тех условиях, в которых оказались российские феминистки.

Сегодня существует довольно много критики помадного феминизма, того, что происходит с движением, когда оно становится модой. В таком феминизме политическое содержание вымарывается, разговор о проблемах и требованиях политических групп заменяется какими-то более легковесными вещами. Такая критика звучала и в России, и частично она была перенесена из подобных дискуссий на Западе. Однако когда критику медийного лайфстайл-феминизма переносили в Россию, многие ее авторы игнорировали тот факт, что в России мы имеем дело не с демократической системой, а с авторитарной.
В авторитарных условиях обращение к лайфстайлу может быть не только проблемой, но и возможностью — для ускользания от государственного надзора и развития политических сообществ.
Ускользание, которое практиковали российские феминистки, с одной стороны, было успешным, потому что движение активно развивалось и расширялось. Но с другой стороны, нельзя сказать, чтобы эта шалость полностью удалась. Среди российских феминисток были и есть большое количество политических заключенных и деятельниц, которые подвергались преследованиям. Особенно это стало заметно во второй половине 2010-х годов, когда власти начали подозревать, что феминизм, возможно, все-таки политическое движение.
Тогда же началась антифеминистская реакция в публичной сфере. Причем не только со стороны государственных деятелей и консерваторов, которые говорили про традиционные ценности, но и со стороны публичных интеллектуалов более либерального крыла, которые начали протестовать против так называемой новой этики. Этот термин создан в России, его не существует в других странах. О том, как «новая этика» была придумана и из чего сконструирована, я писала в своей статье «Как придумали «новую этику»: фрагмент из истории понятий».
Неблагоприятные факторы продолжали развиваться, как и развивалась реакция на феминистскую публичную политику. При этом в самих феминистских кругах происходили постоянные конфликты, что также препятствовало развитию движения. Не хочу сказать, что любые политические конфликты — неблагоприятный фактор, тут согласна с Шанталь Муфф в том, как она понимала агонистическую демократию или демократию спора. Но если говорить именно о феминистских конфликтах последних лет, то очень часто они развивались в непродуктивном ключе.
Разговор о политических ценностях, стратегиях и общих задачах легко превращался в морализирование или личные претензии. Это негативный момент развития феминизма, который тормозил его становление как политической силы.
Развитие феминизма с 2010-го года в этих специфических условиях теперь влияет на то, что происходит с русскоязычной феминисткой публичной политикой после начала войны, когда наша публичная среда начала еще более радикальную трансформацию — и тут я имею в виду огромное количество новых законодательных ограничений свободы слова и более радикальные репрессии против институтов, которые обеспечивали публичную дискуссию.
Я теперь говорю о русскоязычной, а не российской публичной политике, потому что многие феминистки и другие активисты уехали из России, но продолжают писать по-русски и работать для русскоязычной аудитории. Это, кстати, тоже важное отличие публичной сферы сегодня: многие высказывания в ней теперь создаются спикерами за пределами России.
Наблюдая за феминистским движением в наши дни, я вижу развитие многих негативных факторов из 2010-х, которые сейчас по-новому себя проявляют. Если в 2010-е годы феминизм как лайфстайл позволял движению развиваться и расти, то сейчас он начал негативно влиять на феминистскую публичную речь. Проблема лайфстайла заключается в том, что он глубоко индивидуалистичен и я-центричен.
Лайфстайл — это «про меня, мои вещи и мою жизнь», он не про участие в объединениях, создание партии, стратегическое мышление. Коллективной организованной политике и борьбе лайфстайл скорее противоречит.
Индивидуалистическая сторона российского феминизма 2010-х годов сейчас развивается в позицию, которую я замечаю сразу у ряда публичных спикерок феминистского движения. Речь о высказываниях, что любое более-менее крупное объединение — это проблема, что можно что-то говорить и делать от своего лица, но когда происходит объединение в некую структуру, то эти структуры тут же становятся подавляющими институциями и чем-то противоречащим освобождающей политике.
Хотя некоторые подобные высказывания производятся, например, из анархической позиции , я вижу за их антиколлективистским запалом ностальгию по тому феминизму из 2010-х годов, который был «про меня» в первую очередь. В некотором смысле российская ситуация сейчас как будто оспаривает или, скорее, усложняет знаменитую феминистскую формулу «личное это политическое», напоминая нам, что в авторитарном контексте личное, хотя и всегда глубоко политически заряженное, может быть и стратегией деполитизации и избегания политики.
Самое проблематичное в тех дискуссиях, о которых я говорю, — это то, что в них нет никакого понимания, где пролегает граница между просто политическим объединением и подавляющей и заполняющей всю публичную среду «институцией». Есть внутреннее отрицание коллективности как таковой, без четкого представления о критериях, альтернативах и последствиях отказа от коллективного действия для всего движения.
Суммируя все сказанное: в 2010-е годы российское феминистское движение развивалось в авторитарной публичной сфере с большим количеством ограничений. Участницы движения научились обходить ограничения, используя разнообразные тактики публичной политики и ускользания от надзора — в том числе обращаясь к разным форматам лайфстайл-журналистики, благотворительности, искусству.
Это позволило движению расти в 2010-е годы и накапливать ресурс для политического действия: это проявилось, например, в том, что именно феминистки стали одной из первых политических сил, которая объединилась против войны в Украине. Однако тактики, которые ранее помогали феминизму выжить, сейчас показывают и свою негативную деполитизирующую сторону, которая может повлиять на будущее развитие движения.